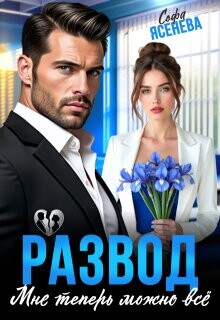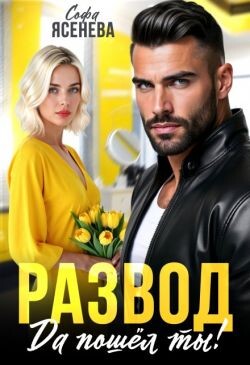Читать книгу 📗 "Развод. В плюсе останусь я (СИ) - Ясенева Софа"
И он такой тёплый. Такой лёгкий. Такой родной.
Меня просто ломает. Ком в горле встаёт такой, что невозможно говорить.
— Как назовёте? — спрашивает медсестра.
— Не знаю… — шепчу. — Мы хотели выбрать вместе. Но… Карина пока в реанимации.
Она кивает мягко.
Я смотрю на сына, он распахивает глаза, тёмные, как ночное небо. И мне кажется, что в них и её взгляд, и её сила.
— Папа тут, — говорю ему. — Я тебя не отпущу. Ты только держись… и мама тоже. Я буду с тобой. Я обещаю.
Он тихонько кряхтит, будто понимает. Ротик вытягивается трубочкой. И я понимаю, что не хочу его отпускать ни на секунду.
— Можно… я побуду с ним? — спрашиваю я, повернувшись к медсестре.
Она смотрит на меня внимательно, оценивающе, но доброжелательно.
— Остаться можно. И даже нужно. Контакт кожа к коже — это сейчас самое лучшее, что вы можете ему дать.
Она уже протягивает мне стерильный плед.
— Садитесь вон туда, в кресло. Снимайте футболку. Я помогу.
Я послушно делаю всё, что она говорит. Сердце колотится в глотке, ладони дрожат, когда я принимаю маленькое тельце сына.
Он такой тёплый. Треугольничек носа, тонюсенькие пальчики с прозрачными ноготками, крохотная головка утыкается мне в грудину.
Я прижимаю его аккуратно, боясь дышать слишком громко… И в тот же момент у меня внутри происходит что-то необратимое.
Как будто мир сместился. Как будто я стал кем-то другим. Как будто весь шум коридоров, ожидание новостей, ужас за Карину отступили, но не исчезли. Просто на передний план выходит он. Наш сын.
Я держу его и не понимаю, как можно было жить до этого момента.
Но счастье перемешано со страхом. Огромным, разъедающим.
Особенно когда он вдруг начинает плакать резко, требовательно, отчаянно. Я вскакиваю мгновенно.
— Эй, эй… тихо… — Я пытаюсь покачать его, прижимаю крепче, но он кричит всё сильнее, ищет что-то головой, вертит ей, тычется мне в грудь… И вдруг утыкается в мой сосок.
Секунда ступора.
— Э… малыш… нет, подожди… как тебе объяснить… — я отчаянно шепчу, не зная, смеяться или плакать.
— Не переживайте, это рефлекс. Он ищет грудь, — раздаётся за спиной спокойный, уверенный голос медсестры.
Она подходит, аккуратно забирает ребёнка на секунду, оценивает.
— Давайте смесь. Он явно голодный.
Она протягивает мне маленькую бутылочку, показывает, как держать, под каким углом, куда упирать голову малыша. И только когда он начинает жадно тянуть, расслабляясь, я отхожу от грани паники.
Пока кормлю, она улыбается:
— Ничего, вы справляетесь. Для первого раза — отлично.
К ночи меня устраивают в маленькой палате.
— Если хотите, оставайтесь. На сыне кислорода нет, показатели стабильные, покормлен, помыли. Ему сейчас важнее быть рядом с родителем.
Я за это цепляюсь как за спасательный круг. Я остаюсь. Конечно, остаюсь.
Стул стоит рядом с кроватью, и я сижу на нём до тех пор, пока не чувствую, как организм сдаётся.
Сын лежит у меня на груди, тёплый, спящий, сопящий время от времени. Я боюсь шевельнуться. Боюсь потревожить.
В какой-то момент я проваливаюсь в сон, короткий, рваный.
Когда меня будят, я вздрагиваю. Сразу опускаю взгляд — сын на моей груди, целый, тёплый, живой. Я как-то… сам собой… переместился со стула на кровать. Ума не приложу, как.
Стоит мне чуть сдвинуться, он сразу начинает ворочаться, издавать возмущённые звуки, искать меня щекой.
Но я смотрю не на него.
Передо мной стоит врач. Серьёзный. Уставший. С папкой в руках.
— Как Карина? — спрашиваю я, уже приготовившись услышать всё что угодно.
Глава 33 Вадим
— Из хороших новостей — Карина Витальевна жива, находится в реанимации. Будем наблюдать за её состоянием. Операция была тяжёлой, обширное кровоизлияние было. Со своей стороны мы сделали всё, что могли, матку ей сохранили, хоть это было и непросто. Теперь всё будет зависеть от её организма. Время покажет, как скоро будут улучшения.
— Могу я её увидеть?
— В реанимацию посетителей не пускают. Так что дождёмся перевода в палату. Наберитесь терпения. Позаботьтесь о сыне.
Ощущение, что все хотят переключить моё внимание. Мол, занимайся сыном и не мешай нам работать. Но как я могу просто взять и перестать думать о Рине? Мой мозг просто не в состоянии переключиться, дать мне передышку. Всё внутри сжато, как будто меня затянули в какой-то плотный туман, где не продохнуть. Слова врача висят в воздухе, и я ловлю себя на том, что повторяю их мысленно снова и снова, пытаясь схватиться за что-то, что даст опору.
Конечно, сын постоянно требует внимания, и поскольку я никогда не имел дела с младенцами, для меня это тот ещё квест. Понять, что он хочет, просто невозможно. Я понятия не имею, как это делают женщины. У них что, какой-то особый радар? Какой-то шифр, который открывается только при рождении ребёнка?
Его плач для меня всегда звучит одинаково. Будто один и тот же тревожный сигнал, который включается без предупреждения. Именно поэтому я постепенно вырабатываю свою схему: проверить памперс, покачать, дать смесь. Иногда и это не помогает, и тогда я просто хожу с ним на руках, укачивая, шушукая что-то невнятное, хотя сам едва держусь на ногах. Он утыкается носом мне в грудь, цепляется маленькими пальцами за футболку, и мне становится одновременно легче и тяжелее. Легче, потому что он здесь, тёплый, живой. Тяжелее, потому что каждый раз я думаю о Карине, которая сейчас лежит без движения на стерильных простынях.
В очередную итерацию понимаю, что неплохо бы предупредить родителей о том, что произошло. Родителям Карины звоню в первую очередь. Они, конечно, намерены приехать, голос тёщи дрожит. Я успокаиваю их, что внука они и так увидят после выписки, а к Рине всё равно никого не пустят.
Затем звоню маме:
— У тебя родился внук. Две тысячи девятьсот восемьдесят граммов, сорок семь сантиметров.
— Вадь, боже, я так счастлива. С ним всё хорошо?
— Да. Он в порядке, я с ним. А вот Карина… в реанимации.
— Прогнозы какие-то есть? Насколько всё плохо?
— Никаких. Только ждать.
— Так. Чем я могу помочь?
— Я не знаю, что у Карины где собрано. Но нам пригодились бы памперсы и сменная одежда. Надеюсь, день на третий выпишут. Могу тебе вынести ключи, съездишь, соберёшь вещи?
— Конечно. Жди.
Она даже не задаёт лишних вопросов, просто действует. И от этого мне вдруг чуть легче, как будто кто-то поставил подпорку под сыплющуюся стену.
В клинику тоже приходится позвонить и сообщить, что я на какое-то время выпаду из их поля зрения. Сколько я буду с сыном один, никто не может сказать. Как быстро я с ним налажу быт, тоже. Я хожу по палате, держа телефон плечом, укачивая малыша, и чувствую себя человеком, у которого в руках сразу десять нитей, и все вот-вот порвутся.
Хотя идеальным вариантом было бы, чтобы Карина пришла в себя.
Чтобы она просто открыла глаза.
Чтобы я услышал её голос.
Чтобы она сказала: «Дай его мне, ты всё делаешь не так». И я бы только рассмеялся — клянусь, впервые в жизни был бы счастлив слышать упрёк.
На третий день в состоянии Карины нет улучшений, наоборот, мне удаётся выпытать у врача, что резко ухудшились показатели. Он говорит это осторожно, подбирая слова.
— Что значит ухудшились? — спрашиваю я слишком резко.
— Мы делаем всё, что можем, — отвечает врач. — Организм реагирует непредсказуемо. Её держат на поддержке. Состояние тяжёлое.
Он говорит «тяжёлое» так спокойно. А мне хочется вцепиться в него, трясти, заставить объяснить, что именно они делают, почему не лучше, почему не срабатывает. Но на руках у меня сын, и его дыхание щекочет мне шею. Он сопит, теплый, маленький, и это единственное, что удерживает меня от того, чтобы сорваться.
Возвращаюсь в палату, а там всё по кругу: смесь, пелёнки, попытки уложить, попытки угадать, что ему нужно. Он плачет. Я сижу на краю кровати, держу его крепче, чем нужно, потому что внутри будто всё качается, нет устойчивости под ногами.