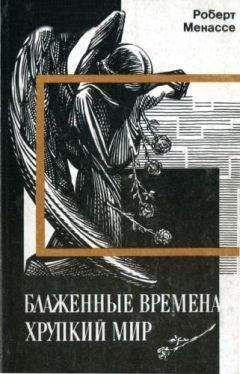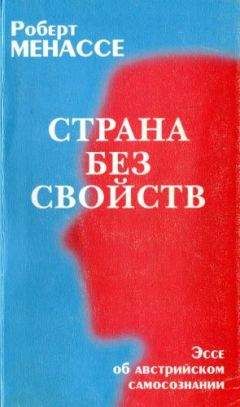Читать книгу 📗 "Столица - Менассе Роберт"
Профессор Эрхарт еще не оправился после смерти жены. И спрашивал себя, отмерено ли ему вообще время, якобы исцеляющее все раны. Если да, то желательно ли такое. Боль, которую он испытывал после страшного угасания, а в итоге смерти жены, так… да, так живо напоминала ему об их большом позднем счастье, и он был уверен, что это воспоминание станет пустой фразой, если его рана вправду затянется.
С планом в руке он шел по гравийной дорожке и дивился, что не слышит хруста. Во всех фильмах и романах гравийные дорожки хрустят. Он остановился. Так тихо кругом. Бесшумно покачивались на ветру ветви деревьев, беззвучно хлопали крыльями вороны. Далеко впереди несколько человек пересекли аллею, словно тени, тихо скользящие мимо, как серые тучи по небу. Он пошел дальше… ну да, на гравии будто лежал слой ваты, теперь он едва внятно различал собственные шаги.
Вот и надгробный памятник. Он несколько раз убедился, что перед ним действительно искомый Мавзолей вечной любви, сомнений не было. Печально. А что он ожидал увидеть? Не Тадж-Махал, разумеется, однако же нечто горделивое, с несравненной соразмерностью воплотившее в архитектуре идею и опыт бесконечной любви, вечность в материале вечности — в камне. Но перед ним были руины. Крыша, где находилось знаменитое, точно рассчитанное отверстие, в которое на саркофаг падало световое сердце, провалилась, левая сторона мавзолея просела, и между каменными блоками образовались трещины и сдвиги, откуда росла сорная трава, кованые двери, украшенные двумя пламенеющими сердцами, заржавели и были заперты на цепочку, одна их створка висела на петлях криво, отчего возникла щель, позволявшая заглянуть внутрь, но саркофага видно не было, только грязь, даже пластиковый мусор, он-то как туда попал?
Слева торчала из земли простенькая, покосившаяся, уже подгнившая и замшелая деревянная табличка, которая сообщала, что срок аренды участка истек в августе 1990 года и возможным потомкам следует обратиться в кладбищенскую контору. Вторая табличка, эмалированная, в чугунной раме, удостоверяла, что мавзолей является памятником культуры.
Идея вечной любви, трактующая вечность настолько буквально, что заранее обеспечивает себе дальнейшую жизнь, заворожила Алоиса Эрхарта. Впрочем, пока вечность оставалась лишь творением человека, была не чем-то абсолютным, а взаимоотношениями людей, по сути, договоренностью, ей, как всему сотворенному людьми, однажды приходит конец, быстрый и беспощадный.
Он должен бы это знать. Ведь минула целая вечность, а именно сорок лет брака, пока в шестьдесят лет он сам впервые до глубины души прочувствовал ее — вечную любовь. И тогда сказал: «Я буду вечно любить тебя!»
Как патетично! Он вправду сам себя удивил, произнеся эту фразу. Ему казалось тогда, он достиг цели. А позднее удивлялся, отчего ему тотчас же не стало ясно, что вечности не бывает: она не что иное, как краткая передышка на пути истории. Я знаю, что буду вечно любить тебя, сказал он тогда… а уже через два года жена умерла. И существует ли, нет ли жизнь после смерти, то есть вечная жизнь — слова о вечной любви, как и чувство, из которого они родились, суть всего лишь воспоминания, сиречь история.
Пафос! В сущности, дело обстояло так: Алоису Эрхарту пришлось дожить до шестидесяти, чтобы узнать, что он действительно существует — хороший секс.
Он сроду не понимал все более настойчивых шепотков и пересудов насчет «хорошего секса». Неужели он действительно подумал: «сроду»? Наверно, перенял у отца, тот употреблял подобные выражения. Так или иначе: он считал «хороший секс» пустой болтовней, сомнительной идеологизацией человеческого инстинкта, которая, не в пример вопросу, что такое «хорошая кухня» с точки зрения человеческого инстинкта пропитания, не поддавалась сколько-нибудь разумному обоснованию и объяснению. Алоис Эрхарт принадлежал к фракции «Человек ест то, что ему дома ставят на стол». Благодарит и осеняет себя крестным знамением. Он был послевоенным ребенком, ребенком восстановления, знал, что такое потребности, и быстро понял, что с ростом благосостояния потребности растут, однако так и не уразумел, почему хороший и свободный секс тоже относят к потребностям, почему о нем нужно вести политические дискуссии и бороться за него, будто он социальная услуга, причитающаяся каждому человеку, вроде свободного доступа к высшему образованию или права на пенсию. В шестидесятые и семидесятые годы минувшего столетия именно его поколение провозгласило «сексуальную революцию», но лично он остался в стороне.
Его отец владел магазином спорттоваров на Марияхильферштрассе, одной из больших торговых улиц Вены, стало быть, в хорошем месте, только вот что проку от превосходного местоположения во времена без покупательной способности? Отец открыл магазин в молодости, в 1937-м, аккурат еще в межвоенные годы, воодушевленный тогда «новым временем», в эйфории, готовый рискнуть. Почему спорттовары? Отец увлекался гимнастикой, был членом венского Общества имени отца гимнастики Яна [76], а кроме того, футболистом, играл за венский клуб «Ваккер», где сменил Йозефа Магала, проданного венской «Австрия», и оттого весьма рано попал в первую лигу «Своей жадностью еврей Магал принес мне удачу, — рассказывал отец, — за десять шиллингов с игры он перешел в „Австрию“, а я попал в боевую команду и был более чем доволен пятью шиллингами»
Открытие магазина. Но дела шли плоив. Кто покупал футбольные бутсы во времена массовой безработицы и гиперинфляции, когда не хватало денег на обычные башмаки? Многие дета ходили тогда в школу босиком. Отец надраивал в магазине велосипеды, изредка продавал «яновские фуфайки» — в просторечии их неизвестно почему называли футболками — и ковылял навстречу банкротству. В 1939-м, когда через свои контакты сумел сбыть довольно крупную партию палаток и спортивного снаряжения венскому юнгфольку и гитлерюгенду, он воспрянул духом, но год спустя магазин пришлось закрыть. В 1944-м дом на Цоллерштрассе, где жили родители, разбомбили, они уцелели, так как сидели в бомбоубежище, и перебрались в еще существующий склад магазина на Марияхильферштрассе. Там и родился Алоис Эрхарт. «Ты складской ребенок» [77], — говаривала его мать, и он считал эту фразу вполне нормальной, как и другую: «Времена в ту пору были скверные». Только студентом он понял, как непостижимо цинично это звучало, раскричался и запретил ей так говорить. Опять-таки минули годы, пока он уразумел, что его мать слишком наивна, чтоб быть виновной, или же ее вина именно в наивности, а потому и винить ее не в чем. Называя своего «Лойсля», рожденного на складе их магазина, не то складским, не то лагерным ребенком, она просто играла привычными словами, которые постоянно вертелись на языке, — беспомощное развлечение в беспомощной нужде, какую она пережила. Она была «немецкой матерью», чье большое сердце и способность сочувствовать близким людям использовали во зло, а она так и не поняла. Нацисты объявили идеалом свое представление о жене и матери, и ведь этот идеал — другого-то она не имела — не упразднишь одним только поражением в войне. В скверные времена он был вне времени, а еще больше значил, когда времена улучшились. «Жертвенность» — слово того же плана, и она плакала, когда господин студент приезжал домой и обзывал ее нацистской ведьмой. Теперь она охотно произносила фразы, начинавшиеся словами: «Когда меня не станет…» — дескать, тогда ему будет ее недоставать. Тогда он поймет, что́ она для него сделала. Тогда пожалеет, что был к ней так несправедлив. Тогда увидит, что… Увидит, как… Когда ее не станет. Она, застрявшая, по мнению сына, в минувших временах, ждала справедливости в потусторонней жизни, тут в ее душе сталкивались две вечности — вечно вчерашнее и вечная жизнь после смерти. Алоис все больше чуждался матери, видеть ее не хотел, когда занимался за кухонным столом, избегал разговоров с нею, споров, слез, уходил на Марияхильферштрассе, к магазину, устраивался со своими конспектами на складе. Но то было не отступление назад, не возвращение «складского ребенка». То было бегство вперед. В будущее, которое здесь вырисовывалось. Экономический подъем стал вполне ощутим, дела у отца пошли в гору. В 1954 году, после чемпионата мира, все играющие в футбол мальчишки мечтали иметь футбольные бутсы с новомодными шипами, и теперь, в начале шестидесятых, большинству отцов было по карману исполнить такое желание сына. И настоящие кожаные мячи. И настоящую спортивную форму. Отныне все должно быть «настоящим», никакого суррогата, никаких «наподобие», хватит довольствоваться тем, «что было в наличии», тем, что при дефиците кое-как удавалось достать. Теперь все лежало в витринах магазинов и на полках супермаркетов, покупай — не хочу, и все тебе по карману. Вот и мать покупала теперь йогурт «Фру-фру», а не подмешивала, как раньше, самодельное повидло в стакан простокваши. Самодельное было суррогатом, покупное — настоящим. Отцовский магазин процветал, наняли продавца, господина Шрамека, старого знакомца времен гимнастического общества, а затем и ученицу, Труди.